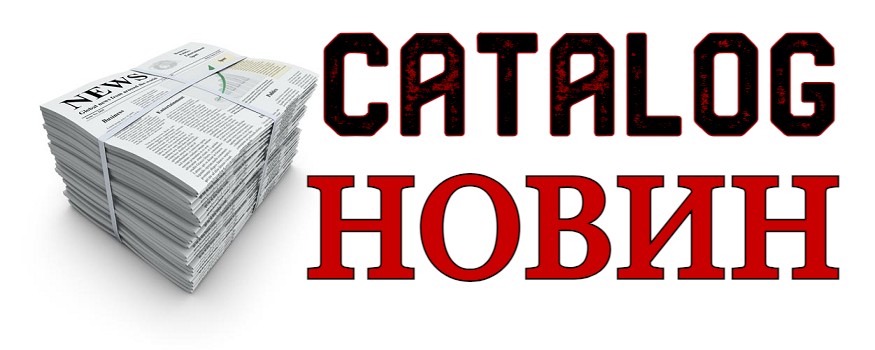В современной Америке есть консервативные и либеральные джинсы (Levi Strauss против Wrangler), пиво (Heineken против Coors) и обувь (Birkenstock против ковбойских сапог). Само движение MAGA связывают с Кидом Роком и употреблением стейков.
В эпоху, когда партийные разногласия достигли такого лихорадочного уровня, что признание политического насилия возросло, а число жестоких политических нападений возросло (последним из громких случаев стало убийство Чарли Кирка), трудно вспомнить, что так было не всегда.
Ещё в 1950-х годах американцы были политически спокойны – настолько спокойны, что комитет Американской ассоциации политических наук призвал обе партии подчеркнуть свои различия и предоставить «истинный выбор». В 1964 году Барри Голдуотер баллотировался на пост президента как республиканец, который должен был обеспечить «выбор, а не эхо», и потерпел сокрушительное поражение. Некоторые политологи приветствовали политическую апатию той эпохи как признак народного удовлетворения и как средство смягчения потрясений для системы. Четыре поколения спустя, похоже, партийные различия слишком велики, а политическая апатия слишком мала.
Почему мы дошли до того, что даже сандалии с открытым носком считаются левыми?
Простые ответы могут указывать на воинственных политиков, прежде всего президента Дональда Трампа, на агрессивные общественные движения, такие как «Чаепитие» и движение Black Lives Matter, или на изменения в СМИ, такие как развитие кабельного телевидения, а затем и онлайн-платформ, таких как Facebook и TikTok. Но ключевая динамика, как обнаружили многие исследователи, заключается в растущей доле американцев, для которых политическая принадлежность играет ключевую роль в их идентичности — в том, что они думают, что чувствуют, кем они себя ощущают.
Здесь нужно остановиться: это утверждение не относится напрямую к большинству американцев. В 2024 году лишь 30% американцев назвали себя «убеждёнными» демократами или республиканцами (лишь около половины из них даже заявили о принадлежности к какой-либо политической партии). Большая часть американцев не принадлежит ни к одной из партий. Политика их мало волнует, они мало говорят, мало потребляют и мало знают — и они мало голосуют (хотя голосование определяет, кто будет у власти, поскольку голоса партий распределены поровну).
Политизация теперь вышла за рамки формирования позиций многих американцев по тем или иным вопросам или даже их культурных вкусов, а стала формировать то, кем они являются.
Тем не менее, политизация столь многих американцев имеет значение даже для аполитичных людей. Последние — зрители политического театра, который американцы считают «утомительным», и когда они голосуют, обычно раз в четыре года, им предлагают диаметрально противоположные варианты. Для страны в целом это означает меньше конструктивного сотрудничества и больше враждебности и гнева.
Связанный
- Почему СМИ так поляризованы — и как они поляризуют нас
Другая история политической поляризации
Существует история политической поляризации, о которой часто рассказывают. В первой половине XX века различия между национальными партиями были незначительными. Процент сенаторов-республиканцев, проголосовавших за Закон о гражданских правах 1964 года, был выше, чем среди сенаторов-демократов; в 1965 году 13 сенаторов-республиканцев проголосовали за учреждение Medicare.
Затем раскол между политиками резко и быстро усилился, сначала, вероятно, из-за расовых проблем, а затем и из-за других. Закон Obamacare был принят в 2010 году без единого голоса республиканцев; в 2018 году за назначение судьи Бретта Кавано в Верховный суд проголосовал лишь один демократ. Углубляющаяся пропасть распространилась и на другие сферы государственного управления, например, на законодательные органы штатов и судебные решения, а также на политически ангажированную общественность.
Партия стала настолько важной, что мнения о масштабах расовой дискриминации теперь различаются больше между демократами и республиканцами, чем между чернокожими и белыми.
Но политизация — это гораздо больше, чем просто раскол в политических взглядах. Политизация вышла за рамки формирования позиций многих американцев по различным вопросам или даже их культурных вкусов, став фактором, определяющим их личность: с кем они встречаются (с кем женятся и дружат), к каким сообществам присоединяются, какую религию исповедуют, какие жизненно важные решения принимают.
В последние несколько десятилетий или около того, больше американцев отсортировали или изменили свои взгляды на многие разрозненные политики — например, на иммиграцию, аборты, войну, климат, гендер и преступность — чтобы лучше соответствовать их идентичности как демократов или республиканцев. Взгляды на аборт, так глубоко связанные с моральной интуицией, представляют собой яркий пример. В начале 1970-х годов республиканцы примерно с такой же вероятностью, как и демократы, соглашались в Общем социальном исследовании NORC/Университета Чикаго, что «беременная женщина должна иметь возможность сделать легальный аборт, если она замужем и не хочет больше детей». Пятьдесят лет спустя общее мнение американцев не изменилось, но поддержка республиканцев таких абортов упала примерно на 20 процентных пунктов, а поддержка демократов увеличилась примерно на 15 пунктов; аборт стал определяющим партийным вопросом. Аналогичным образом, в 1997 году члены обеих партий, как было зафиксировано опросом Гэллапа, имели одинаковый уровень обеспокоенности по поводу того, начались ли последствия глобального потепления; К 2021 году разрыв между все более обеспокоенными демократами и все более оптимистичными республиканцами составил 53 пункта.
Один из способов, которым могла произойти эта поляризация, заключается в том, что люди меняли партии, чтобы соответствовать своим меняющимся взглядам на такие вопросы, как аборты или климат. Отчасти это, безусловно, имело место. Но многие исследования показывают, что люди так же часто или чаще меняли свои взгляды, чтобы соответствовать своей политической идентичности. Это проявляется в исследованиях, которые наблюдают за людьми в течение нескольких лет и показывают, что люди часто меняют свои позиции по существенному вопросу после того, как они впервые сменили свою политическую принадлежность, приняв новую принадлежность, возможно, из-за политических событий, не связанных с этой темой, или из-за новых личных обстоятельств, таких как брак, новая работа или новый район. Другими словами, если следовать примеру с абортами, многие стали республиканцами (возможно, из-за расовых убеждений или новых друзей), а затем стали сторонниками жизни.
Всё чаще даже оценки респондентами реальных фактов, например, улучшения или ухудшения состояния экономики или роста неравенства, различаются в зависимости от партии. Партия стала настолько важной, что мнения о масштабах расовой дискриминации теперь различаются больше между демократами и республиканцами, чем между чернокожими и белыми; взгляды на неравенство доходов различаются больше между партиями, чем между доходами отдельных людей.
Политическая позиция всё большего числа американцев стала соотноситься с самыми разными вкусами, выходящими далеко за рамки государственной политики, — например, слушая Кид Рока или Бейонсе, посещая музеи или играя в гольф, смотря шоу «Умерь свой энтузиазм» или «Antiques Roadshow». Потребление как политический сигнал — например, кофе, брендированный в соответствии с политической принадлежностью — было ярко продемонстрировано в (моём собственном) Беркли, Калифорния: сначала высокая доля владельцев Tesla, демонстрирующая климатический либерализм (а также солидный банковский счёт), а затем высокая доля протестов против Tesla, демонстрирующая либерализм, направленный против DOGE.
Отчасти эту политизацию можно списать на простое позирование, декларирование своих прав или на то, что социологи называют «экспрессивным реагированием». Но политизация идёт гораздо глубже.
Партийная принадлежность, похоже, всё больше определяет, а не просто отражает, важные личные решения американцев. Значительная часть дискуссий об «аффективной поляризации» — о том, что сегодня больше демократов и республиканцев на самом деле ненавидят друг друга, — началась с исследования, согласно которому в 2010 году больше американцев были недовольны перспективой брака с зятем или невесткой из другой партии, чем в 1960 году. Спустя годы многие одинокие американцы исключают возможность отношений с кем-то с иными политическими взглядами.
Опрос 2020 года показал, что примерно у половины демократов и республиканцев есть близкие социальные сети, состоящие исключительно из людей, разделяющих их политические взгляды. Респонденты опроса часто видят больше согласия с окружающими, чем есть на самом деле, но, тем не менее, эта однородность значительна и усилилась. (Социальная однородность, в свою очередь, поощряет партийность и враждебность.)
Такая политическая однородность отчасти обусловлена тем, с кем люди предпочитают проводить время, а кого избегать. Сторонники стойких политических взглядов предпочитают общаться с единомышленниками и избегать разговоров с теми, кто придерживается иных взглядов. Кроме того, они склонны разрывать отношения с друзьями (а не с родственниками), которые не согласны с их политическими взглядами. По одной из оценок, 15% американцев «разрывали дружбу из-за политики». Политическая однородность также отчасти обусловлена влиянием семьи, друзей и соседей, заставляющим их придерживаться своих взглядов.
Политическая идентичность влияет на людей и менее явным образом. Американцы всё больше сегрегируют себя географически — не потому, что ищут соседей-однопартийцев, хотя отчасти и это происходит, а потому, что причины, по которым люди переезжают — или решают не переезжать, — всё чаще связаны с партией. Например, те, кому нравятся большие дома и большие дворы, обычно селятся в «красных» районах, а те, кому нравится ходить пешком до местных удобств, — в «синих». В обоих случаях связь между партией и районом усилилась. Исследование 2021 года пришло к выводу, что многие «избиратели живут практически без [местного] контакта с избирателями другой партии».
Но что ещё более поразительно, американцы всё чаще подстраивают свои религиозные убеждения под политические. Религия и политика в Соединённых Штатах издавна переплетались — например, в XIX веке шли споры о запрете алкоголя, воскресной почтовой службе и о том, какую версию Библии следует читать в государственных школах; именно вера американцев определяла их политические взгляды. Уже около 30 лет политика неразрывно связана с религией, и, что важно, политическая идентичность определяет проявления веры.
Впервые стало ясно в 2000-х годах, что те, кто идентифицирует себя как демократы, либералы и умеренные, отходят от организованной религии и называют себя нерелигиозными (как «неверующие»), во многом в ответ на то, что они считали консервативной политизацией церкви, особенно в вопросах образа жизни.
Затем, примерно за последнее десятилетие, накопились свидетельства того, что всё больше консерваторов начинают исповедовать веру, особенно евангелическую, вероятно, по зеркальным причинам: чтобы отвергнуть секуляризм, связанный с либеральными позициями, такими как поддержка гендерного сдвига. Райан Бердж, исследователь-динамоуправляемый исследователь Graphs about Religion, предположил мне, что недавнее стабилизирование роста числа «неверующих» может быть объяснено тем, что консерваторы считают, что непринадлежность к какой-либо религии «стала настолько тесно связана с политикой левого крыла». Эти консерваторы «функционально нерелигиозны… но они всё ещё не могут смириться с тем, что не идентифицируют себя как христиане в опросе». То, что политическая принадлежность стала менять религиозную идентичность значительного числа американцев, является убедительным свидетельством политизации жизни многих из них.
И наконец, политика связана с решениями, имеющими решающее значение для жизни. Как и следовало ожидать, левые и правые расходятся во мнениях по многим вопросам, связанным со здоровьем, например, о детских вакцинах, профилактике рака и опасностях игры в американский футбол. Но левые и правые также различаются в отношении к здоровью, от питания (например, количества потребляемого мяса) до физических упражнений. Одним из результатов является то, что жители красных округов чаще страдают ожирением, чем жители синих, даже с учётом расы, бедности и уровня образования.
Самым трагичным примером стала пандемия COVID-19. В «красных» штатах, где вакцинация вызывала наибольшее сопротивление, смертность была выше, чем в «синих»; среди республиканцев смертность была выше, чем среди демократов. Сотни тысяч смертей, вероятно, можно объяснить политической идентичностью.
Связанный
- Дональд Трамп создаёт странное новое религиозное движение
Так что же произошло?
Семьдесят лет назад пол, раса и регион определяли образ жизни, судьбу и идентичность американцев больше, чем сейчас; уровень образования и, все чаще, политика стали для многих людей ключевым ответом на вопрос, кем они являются.
Что же случилось, что нас оказалось так много? Исследователи спорят о том, в какой степени нынешнее разделение и враждебность между красно-синими обусловлены идеологическими и политическими различиями или «социальной идентичностью» и эмоциями.
С одной стороны, аргумент заключается в том, что всё больше американцев стали более последовательно придерживаться определённых политических позиций. В середине XX века избиратели, придерживавшиеся любых взглядов, как правило, придерживались смешанных взглядов; это была эпоха консервативных и либеральных демократов, консервативных и либеральных республиканцев, но в основном апатичных, как жаловалась комиссия по политологии. Членство в партии могло быть связано с определенными вопросами — например, отношением профсоюзных работников к демократам, — но чаще всего оно было вопросом семейных и общественных традиций, уходящих в глубь поколений.
Изменения начались в 1950-х годах, а затем ускорились в 1960-х и 1970-х годах, сначала вокруг расы. Консервативные белые южане бежали из дружественной черным Демократической партии в объятия того, что стало, с ее «южной стратегией», более симпатизирующей белым Республиканской партией. С тех пор, как гласит один аргумент, партии заняли позиции по другим вопросам, выгодные их избирателям. Республиканская партия, все больше становившаяся домом белых южан, переняла их евангелические взгляды на аборты; Демократическая партия затем, в качестве реакции, стала партией легализации абортов. (Это одна из причин, по которой католическая идентификация с Демократической партией снизилась в конце 20-го века и начале 21-го века.) Таким образом, именно политические разногласия, особенно по ряду известных, «фирменных» партийных вопросов, таких как государственные расходы, расовые отношения, иммиграция и аборты, стали движущей силой политизации.
Другая версия заключается в том, что политическая враждебность, мотивированные рассуждения и преданность племени, проявляемые в современной политике, лучше всего объясняются не глубинными политическими предпочтениями, а тем, что многие американцы связывают свою личную идентичность с политикой. «Неудачи и победы партии становятся личными», — пишет один из сторонников этой точки зрения.
На практике эти два фактора — политическая идеология и партийная идентичность — переплетены и подпитывают друг друга. Сторонник права на жизнь в конечном итоге идентифицирует себя с республиканцами, а убеждённый республиканец — с убеждениями, связанными с правом на жизнь. Но большинство учёных, похоже, признают, что в любом случае в этой политизации присутствует глубокий психологический элемент. Учитывая глубину и широту партийной принадлежности, охватывающую даже личные сферы жизни, степень влияния партий на другие идентичности, такие как религия, частое проявление необоснованных эмоций и частую произвольность партийных пакетов (например, сочетание более низких налогов на наследство с закрытой иммиграционной политикой), трудно не прийти к выводу, что идентичность является движущей силой политизации.
Подкрепляемая в обоих случаях, жизнь в политически однородном социальном мире имеет свои последствия, среди которых более враждебные и неинформированные взгляды на сторонников другой партии (например, переоценка количества демократов, являющихся представителями ЛГБТК+, и количества богатых республиканцев), а также преувеличение их позиций. В настоящее время предпринимается множество попыток преодолеть поляризующий эффект партийной однородности, объединяя сторонников или предоставляя им новую информацию, иногда успешно, иногда нет. Но дело в том, что политически определённые отношения подчёркивают степень политизации столь многих — хотя, опять же, не большинства — американцев. То, кем они являются, тесно связано с тем, кем являются их соотечественники, и эти люди становятся всё более политизированными.
Если мы видим политизацию всего как проблему, можем ли мы откатить ее к 1950-м? Сомнительно; консенсусные 50-е также были аномальной эпохой. Возможно, уровень политической активности 1990-х годов, что-то среднее между мягкими 1950-ми и маниакальными 2020-ми, достижим. Но не скоро. Вероятно, для этого потребуется похмелье от политизации эпохи Трампа — которая сверхсильно усилила политизацию, как это было продемонстрировано в мемориале Чарли Кирка, когда Трамп, услышав мольбу вдовы о сострадании, сказал: «Я ненавижу своего оппонента и не желаю ему лучшего. Прости, Эрика», — или катастрофические социальные изменения, такие как экономический коллапс, который возвышает другие принадлежность над партийной, чтобы представить, что партийная идентичность, настолько сильная, что она влияет на все, от брендов обуви до религиозной принадлежности, ослабнет в ближайшее время.
Source: vox.com