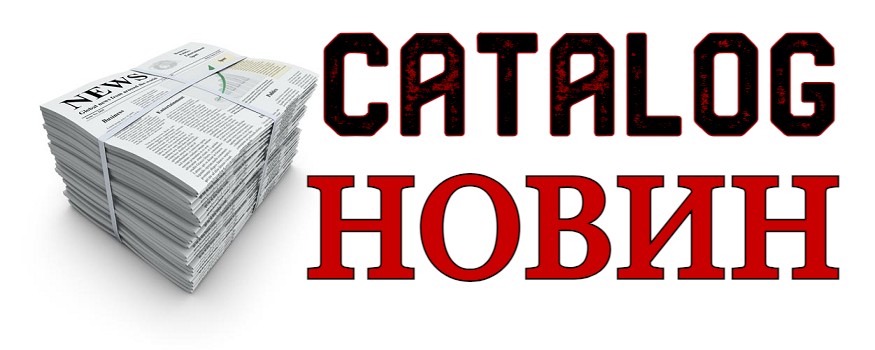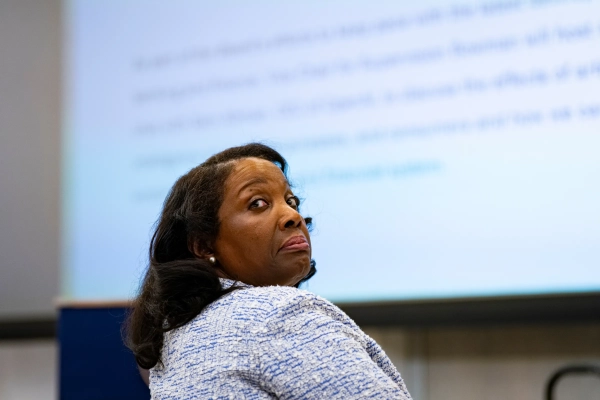Свобода слова — основа демократии. Она — источник жизненной силы либерального общества. Говорить то, что хочешь сказать, то, что нужно сказать, — недаром занимает первое место в Билле о правах, верно?
Но слово также обладает силой. И скользким. И люди могут использовать его опасным, непредсказуемым и хаотичным образом. Так как же нам справиться с этим напряжением? Должна ли свобода слова быть немного менее свободной? Или это действительно неоспоримое право?
Опасности и достоинства свободы слова приобрели новую актуальность после убийства правого активиста Чарли Кирка. После его смерти правые и не только восхваляли его как образец свободы слова, участвуя в дебатах с идеологическими противниками в университетских кампусах и высказывая своё мнение в подкасте. Но критики также называли его врагом свободы слова, создав онлайн-список наблюдения за профессорами колледжей, которых он считает недостаточно почтительными по отношению к консерваторам, открыто призывая посетителей запугивать их и сообщать о них, а также часто принижая демократические ценности и участие меньшинств, женщин и его политических оппонентов. Теперь политики, компании и СМИ увольняют и угрожают тем, кто критиковал Кирка после его смерти, — иными словами, наказывают их за их высказывания.
Фара Дабхойвала — историк из Принстона и автор новой книги «Что такое свобода слова? История опасной идеи». Несколько недель назад, до смерти Кирка, я пригласила Дабхойвалу в программу «Серая зона», чтобы поговорить о противоречиях, лежащих в основе свободы слова, о том, как возникла эта концепция, кому она дала силу и во что она превратилась в цифровую эпоху.
Как всегда, в полной версии подкаста вас ждёт гораздо больше интересного, так что слушайте и следите за The Gray Area на Apple Podcasts, Spotify, Pandora или где бы вы ни находили подкасты. Новые выпуски выходят каждый понедельник.
Это интервью было отредактировано для большей краткости и ясности.
Я хочу начать с мифа о свободе слова. Большинство людей считают его вечным, универсальным, почти священным идеалом. Ваша книга бросает на это серьёзный вызов. Почему вы решили, что важно опровергнуть эту теорию?
Потому что это центральная часть современной культуры, и потому что мы часто говорим об этом неправильно. Мы все верим в свободу слова, и это правильно. Но мы упускаем из виду два момента.
Во-первых, психологически никто не любит, когда ему указывают, что говорить, а что нет. Этот инстинкт силён. Во-вторых, мы неверно понимаем свободу слова, если пытаемся определить её исключительно на основе первых принципов — философских или юридических. Без истории её по-настоящему не понять.
Десять лет назад я путешествовала по миру с предыдущей книгой по истории секса. Я увидела, насколько по-разному люди могли — или не могли — говорить об этом в разных культурах. В Китае, где её перевели, сам текст подвергся цензуре; я своими глазами увидела, насколько всеобъемлющ аппарат цензуры. Эта поездка заставила меня задаться вопросом: если мы на Западе так глубоко ценим свободу слова, откуда взялась эта идея? Почему мы так резко расходимся во мнениях о её значении? Это исторические вопросы, поэтому я и отправилась туда.
Если бы вы попросили большинство людей дать определение свободе слова, они бы ответили, что это отсутствие цензуры. Просто и понятно. Что в этом плохого?
Это соблазнительно и неполно. Мы предполагаем, что отмена цензуры автоматически расширяет свободу. Но свобода слова имеет свою форму: она зависит от того, кто говорит, с кем и в каком контексте. У некоторых людей свобода больше, чем у других, даже в пределах одного общества. Например, исторически сложилось так, что голоса женщин воспринимались менее серьёзно, чем голоса мужчин. Этого не решить простой отменой цензуры. Власть и контекст по-прежнему определяют выражение мнений.
Часть вашего аргумента заключается в том, что свобода слова никогда не была целостным идеалом — и не может им быть, — поскольку она отрицает два основных факта о коммуникации: речь — это действие в мире, и она зависит от контекста. Можете ли вы это объяснить?
Речь — это действие. Вольтер однажды написал другу: «Я пишу, чтобы действовать». Мы говорим и публикуем, чтобы оказывать влияние на мир. Доктрина свободы слова, особенно в её наиболее жёсткой американской форме, утверждает, что между речью и действием существует чёткая граница. Это совершенно неверно. Речь — это особый вид действия. Часто оно незначительно, но может иметь серьёзные последствия.
А коммуникация исключительно контекстно-зависима. Смысл меняется в зависимости от того, кто говорит, где, почему и кому. Выступление президента по телевизору — это не то же самое, что беседа в ночном баре. Шутка на деликатную тему воспринимается по-разному в зависимости от говорящего и аудитории. Подход, основанный исключительно на содержании — «право говорить X слов» — игнорирует тот факт, что одни и те же слова могут означать совершенно разные вещи в разных контекстах.
Многие называют себя абсолютистами свободы слова. Разве для этого нужно отрицать эти реалии?
Если вы абсолютист, вы вынуждены отмахиваться от вопросов вреда и контекста. И ещё один момент: поскольку речь — это действие, она может быть вредна как отдельным людям, так и общественному благу. Клевета может разрушить репутацию и средства к существованию. Теории заговора могут разрушить общественное мнение и спровоцировать насилие. Общества всегда это знали и соответствующим образом регулировали свободу слова.
Абсолютизм кажется добродетельным — вы за свободу и против цензуры. Но он также избавляет вас от необходимости размышлять о реальных последствиях коммуникации. На практике никто не является настоящим абсолютистом. Даже самые либертарианские судьи в истории США проводили черту, касающуюся нарушения работы суда, целенаправленного преследования, времени, места и манеры. Каждый соблюдает баланс, признаёт он это или нет.
Сложный вопрос: где провести границу между оскорблением и вредом. Оскорбление должно быть разрешено в свободном обществе. С вредом дело обстоит сложнее, и эта граница всегда будет оспариваться.
Да. Мы постоянно балансируем на скользких склонах. Вот что значит жить в свободном, демократическом обществе. Границы должны быть максимально ёмкими, а понятие «вреда» должно быть чётко определено. Законы — грубые инструменты; они не способны уловить нюансы коммуникации и легко могут быть использованы в качестве оружия.
Но один из способов уменьшить путаницу — различать виды самовыражения. Художественное самовыражение должно получить максимально широкую свободу: оскорбление — это не вред, и буквальная правда не имеет значения. Политическая речь — это другое. Истина имеет значение в демократическом дискурсе. Если мы позволим заговорам и преднамеренной лжи беспрепятственно заполонить публичную сферу, демократия разрушится. Разные сферы требуют разных подходов.
Поразительно, как взгляды людей на «вредоносную речь» соотносятся с их положением во властной иерархии. Движение, которое кричит о «свободе слова», когда оно не у власти, часто подавляет её, когда находится у власти.
Это извечно. «Свобода слова» всегда была лозунгом, который можно использовать как оружие. Его используют для достижения любых текущих политических целей. Это лицемерие не ново; оно заложено в непоследовательности самого лозунга.
Давайте поговорим об усилении. Не только о праве говорить, но и о возможности быть услышанным. Это ли форма власти?
Безусловно. И это недостающий элемент в большинстве современных дебатов. Мы склонны представлять свободу слова как поединок между отдельным говорящим и государством. Мы игнорируем СМИ — институты, которые усиливают или заглушают голоса. В XIX веке люди уже видели, как средства массовой информации формируют, чьи голоса слышны и что считается легитимным мнением. Их мотивы — прибыль, политическое влияние — часто противоречат поиску истины.
Сегодня эту роль играют онлайн-платформы. Их алгоритмы постоянно возвышают одни высказывания и подавляют другие. Если свобода слова направлена на продвижение истины и создание равноправной общественной сферы, то сила усиления должна быть частью уравнения.
Рассматривалась ли свобода слова когда-либо как неотъемлемое, основополагающее и безграничное право до принятия Первой поправки?
Нет. До XVIII века основное внимание уделялось ограничению вреда, наносимого свободой слова — как отдельным людям, так и обществу. Люди на горьком опыте убедились, что неконтролируемые слухи и ложь приводят к беспорядкам, погромам и хаосу. В англоязычном мире первый закон против «ложных новостей» был принят в 1275 году.
Современная «свобода печати» возникла в Англии начала XVIII века по случайным причинам. Допечатная цензура перестала действовать; печатное дело стало бурно развиваться; партии использовали газеты в качестве оружия. Лозунг «свобода печати» прижился, но он всегда сопровождался тревогой по поводу «распущенности» и злоупотреблений свободой. Никто не верил в абсолютность этого права.
Большинство американцев никогда не слышали о «Письмах Катона» , но вы утверждаете, что они являются основой нашей традиции. Что же они собой представляли?
Еженедельная колонка, выходившая в Лондоне с 1721 года, написанная двумя анонимными журналистами. Значительная её часть представляла собой переработку республиканской теории — Локка, Макиавелли — в краткие нападки на правительство. Но в основе этого весьма вторичных проектов лежало нечто поразительно оригинальное: протоабсолютистская теория свободы слова. Они утверждали, что свобода слова — основополагающее право; любое ограничение — это скатывание к тирании; и что слово не может причинить реального вреда по сравнению с вредом цензуры.
Она была идеальной для колониальной Америки. Эта риторика была на руку революционерам, желавшим изобразить имперскую власть тиранией. Идеи из «Писем Катона» перекочевали в американские памфлеты и, в конечном итоге, в риторику Первой поправки.
И ваши исследования показывают, что авторы не были совсем уж беспристрастными философами.
Вовсе нет. Текст также служил защитой их собственной партийной практики. Они осуждали коррупцию, одновременно участвуя в ней — переходя на другую сторону ради денег и добиваясь покровительства правительства. Один из авторов даже стал правительственным пропагандистом. Ирония в том, что их упрощённая теория пережила грязную действительность, породившую её, пересекла Атлантику и прочно укоренилась в американской политической культуре.
Джон Стюарт Милль — современный гигант. Какова его роль?
Книга Милля «О свободе» — знаковая и вдохновляющая работа, а его защита «экспериментов в жизни» глубоко продумана. Но как теория речи она менее последовательна, чем принято считать. Он обосновывает свободное выражение чувств индивидуальной самореализацией и считает речь настолько близкой к мысли, что она практически не поддаётся критике. Это упускает из виду тот факт, что выражение чувств действительно влияет на других; в этом и заключается смысл выражения чувств.
Есть ещё и имперский контекст. Милль провёл свою карьеру в Индии, занимая пост высокопоставленного чиновника Британской империи. Он открыто ограничивает свой идеал практически безграничного самовыражения «развитыми» цивилизациями. Для «более слабых», по его мнению, риск причинения вреда слишком велик. Его критики в своё время это критикуют. Мы помним великолепную риторику Милля, но забываем о предостережениях, которые её подрывают.
А ещё есть «рынок идей». Если мы просто уйдём с дороги и позволим словам столкнуться, правда победит. Хотите ли вы избавиться от этой метафоры?
Я понимаю эту привлекательность; хотелось бы, чтобы это было правдой. Но подлинный рынок идей требует равного доступа к достоверной информации, общих норм в отношении доказательств и примерно равных возможностей для участия. Это полная противоположность нашей нынешней медиасреде.
Существуют институты, которые пытаются приблизиться к рынку поиска истины: наука, серьёзная журналистика, высококачественные публикации. У них есть барьеры — проверка фактов, экспертная оценка, профессиональные нормы — и со временем они приходят к истине. Научный консенсус по вопросу изменения климата — хороший пример. Но в более широкой политической сфере «рынок» — это фиговый листок для возвышения зрелищ, обид и прибыльной лжи.
Является ли американский подход сейчас исключительным?
Да, теперь. Один из сюрпризов моего исследования заключается в том, что с конца XVIII века до 1940-х годов американская практика не так уж сильно отличалась от европейской. Существовала модель баланса: свобода в сочетании с ответственностью и признанием потенциального вреда. В 1789 году, всего через несколько недель после согласования текста Первой поправки, в Америку пришла весть о французской Декларации прав человека. Она закрепила свободу слова и обязанность не злоупотреблять ею. Американские комментаторы высоко оценили эту формулировку как превосходную. Пенсильвания незамедлительно приняла эту формулировку баланса в своей конституции, и другие штаты последовали её примеру.
Изменила ситуацию Холодная война. В борьбе с тоталитаризмом американцы отшатнулись от всего, что напоминало «коллективное» мышление. Судебная практика Верховного суда, основанная на Первой поправке, склонилась к более жёсткой, абсолютистской линии. Благородные намерения — упрощение доктрины, защита диссидентов — привели к непреднамеренным последствиям: расширению разрыва между юридической теорией и коммуникативной реальностью и созданию условий для нанесения ущерба в публичной сфере, защищённого законом.
В защиту Первой поправки: она была важнейшей защитой от государственного произвола, защищая диссидентов и борцов за гражданские права. Я бы предпочёл жить в хаосе избытка свободы слова, чем в опасности недостатка. Но признаю, что цифровая эпоха лишила меня уверенности.
Обе модели — абсолютистская и балансирующая — имеют недостатки. Проблема современной американской версии заключается в том, что она отказывается рассматривать речь как действие и силу усиления. Этот отказ был принят корпорациями, управляющими онлайн-дискурсом по всему миру.
Нам также следует перестать притворяться, будто платформы — нейтральные каналы. Их алгоритмы — это постоянная модерация ради прибыли. Исторически каждое новое средство массовой информации — радио, телевидение, кино — появлялось под регулированием, основанным на общественных интересах. В 1990-х годах США пошли по другому пути развития интернета. Раздел 230 предоставил платформам всеобъемлющую защиту: они могут модерировать контент, а также избегать ответственности за публикуемые материалы. Добавьте к этому «больше свободы слова — единственный ответ», и вы получите рецепт масштабной безответственности.
И стандартное беспокойство: действительно ли мы хотим, чтобы платформы — или правительства — решали, что считается приемлемой речью?
Это справедливое беспокойство, но «ничегонеделание» — не решение. Самые изощрённые попытки на данный момент предпринимаются в Европейском союзе. Базовая модель там — создание независимых, независимых надзорных органов — беспартийных, ориентированных на общественные интересы. Затем потребуйте прозрачности: каковы ваши правила и соблюдаете ли вы их последовательно? Больше никаких «чёрных ящиков». А затем масштабируйте обязательства до уровня власти. Крошечный стартап не должен нести такое же бремя, как платформа стоимостью в триллион долларов, которая может позволить себе надёжную модерацию и имеет глобальное влияние. Если вы получаете прибыль от формирования общественной сферы, вы наследуете и ответственность за неё.
И что теперь? Нужно ли нам перестать относиться к свободе слова как к непреложному, универсальному идеалу, который должен быть идеально реализован, и вместо этого чётче рассматривать её как политический инструмент, который мы адаптируем для своих целей?
Нам нужно стать более изобретательными. Мы переживаем глобальную медиареволюцию; старые правила больше не работают, и именно поэтому эта тема снова так актуальна. Мы говорим о свободе слова слишком упрощенно. Мы игнорируем усиление. Мы сжимаем отдельные сферы — искусство, науку, политику — в одну недифференцированную дискуссию. Мы делаем вид, что идеал не имеет формы, хотя на самом деле всё дело во власти: кого слышат, а кого нет.
Мы не во всём согласны. Но мы можем аргументировать лучше, если будем использовать более продуманные концепции. Именно это, я надеюсь, и предлагает эта книга.
Каким бы запутанным он ни был, идеал всё равно стоит защищать. Я, безусловно, в это верю, и думаю, вы тоже. Здесь нет противников свободы слова.
Конечно. Это благородный идеал, неотъемлемая часть свободного общества. Но мы всегда должны спрашивать: для чего нужна речь? Цель искусства — воображение: шок, восторг, провокация. Цель демократического дискурса — самоуправление. Здесь мы должны серьёзно отнестись к проблеме вреда — не только по американскому, очень узкому стандарту непосредственного подстрекательства, но и к более широким, исторически хорошо известным способам, которыми речь может развращать публичную сферу и лишать людей равного достоинства.
А как насчёт прессы? Какова наша ответственность в свободном обществе?
В 1940-х годах и позже, когда люди всерьёз задумались о влиянии СМИ, американским ответом — за исключением формального законодательства — стала профессионализация: школы журналистики, редакционные стандарты, исправление ошибок. Эти нормы, какими бы несовершенными они ни были, пытались привести влияние СМИ в соответствие с общественным благом. Если мы потеряем это, мы скатимся в мир чистых слухов и пропаганды.
И да, коммерциализация искажает стимулы. «Капиталистический пресс», как иронично говорили ранние социалисты, часто служит прибыли, а не истине. Это противоречие реально, и оно важно.
Если бы я положил перед вами карту и попросил бы вас указать страну, которая лучше всего со всем этим справляется, смогли бы вы?
Нет. Не США. Не Великобритания. Не Индия. Каждая система испытывает трудности, что, возможно, лишь отражает несовершенство человеческого общения. Мы также всё ещё находимся на ранней стадии самой значительной революции в сфере коммуникаций со времён появления печати, а может быть, и более масштабной. Переосмысление границ слова и власти займёт время. Будем надеяться, что мы разберёмся с этим до того, как погаснет свет.
Что бы вы хотели оставить людям?
В следующий раз, когда вы столкнётесь с кризисом «свободы слова» и почувствуете желание немедленно встать на чью-то сторону, остановитесь и спросите себя: для чего используется этот лозунг? Что он скрывает? Часто «свобода слова» мешает более глубокой политической дискуссии, которую нам следовало бы вести. Не позволяйте лозунгу затмевать суть.
Послушайте остальную часть беседы и обязательно следите за The Gray Area на Apple Podcasts, Spotify, Pandora или там, где вы слушаете подкасты.
Source: vox.com