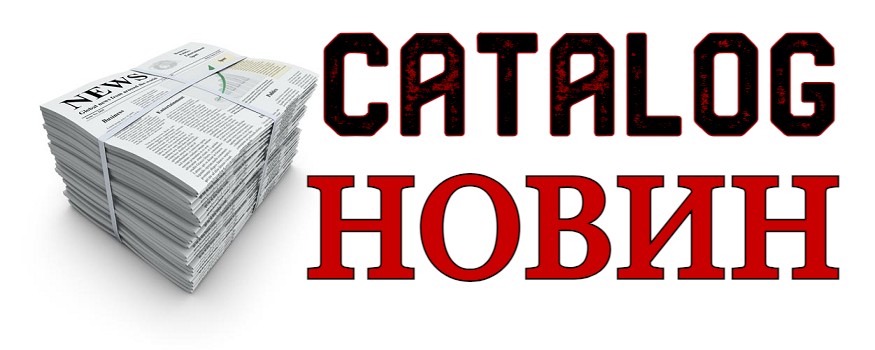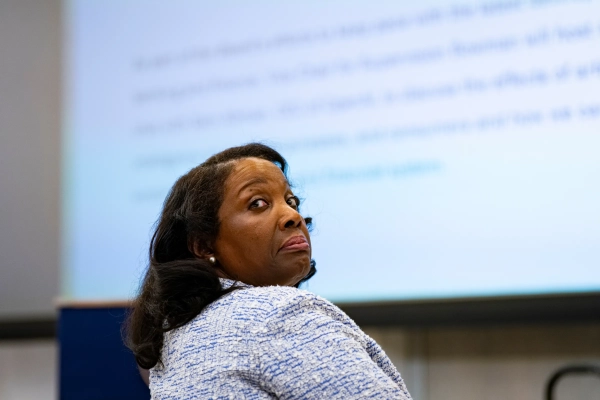Современная Республиканская партия полностью приняла максиму Эндрю Брейтбарта о том, что «политика идёт по течению от культуры». Похоже, именно поэтому президент Дональд Трамп во время своего второго срока так много времени потратил на попытки взять под контроль американское искусство: ведь именно оно вливается в политику. Если американская политика когда-либо станет чисто трамповской, то американской культуре лучше стать таковой в первую очередь.
Трамп приказал Смитсоновскому институту провести ревизию, которая лучше соответствовала бы его собственному пониманию искусства и истории. (Он сказал, что хочет меньше внимания уделять тому, «насколько ужасным было рабство».) Он назначил себя председателем Центра Кеннеди и призвал положить конец дрэг-шоу и так называемой «пробужденной» истории. Он сократил федеральное финансирование Национального фонда искусств, Национального фонда гуманитарных наук и Корпорации общественного вещания, вызвав цепную реакцию по всей художественной инфраструктуре страны. Часть финансирования, оставшегося в NEA, Трамп выделил на собственные любимые проекты: сад скульптур, изображающий одобренных Трампом национальных героев (абстрактные скульпторы не нужны); патриотические пьесы и концерты, посвященные 250-летию Америки.
Стремясь к влиянию на американское искусство, Трамп прямолинейно высказывается о том, как, по его мнению, оно должно выглядеть. Ему нравятся масштабные, помпезные, зрелищные работы, которые при этом являются полностью репрезентативными, не перегруженными метафорами и символикой. Он не хочет ничего, что могло бы намекнуть на то, что Америка когда-либо была менее великой, за исключением периода правления демократов. Он хочет ностальгическую американу в стиле Нормана Роквелла, а не Кейнде Уайли. Ему не нужен Гамильтон; ему нужен «1776», и не чисто женское возрождение «1776», как пару лет назад.
Связанный
- Мелкая месть Трампа Центру Кеннеди
Трамп здесь не такой уж новатор. Правительство США и раньше вмешивалось в американское искусство. Самый известный пример – ЦРУ, десятилетиями финансировавшее одних художников и литературные журналы во времена холодной войны, одновременно слежка и преследование других, чтобы лучше формировать имидж Америки на мировой арене. ЦРУ считало, что политика тоже идёт по нисходящей линии от культуры, особенно когда у вас и вашего врага есть ядерные бомбы, и вы хотели бы избежать их применения.
«В нашем стремлении любой ценой избежать трагедии открытой войны „мирные“ методы станут ещё более важными в периоды предвоенного смягчения, настоящей открытой войны и послевоенных манипуляций», — говорится в меморандуме ЦРУ от 1945 года, предвосхищая изменения в тактике, которые потребовала бы новая атомная бомба. Уже тогда, пишет историк Фрэнсис Стонор Сондерс в своей авторитетной книге «Культурная холодная война», было ясно, что «оперативным оружием», которое США будут использовать в войне с Советами, «должна стать культура».
Сравнение холодной войны ЦРУ в культуре с захватом власти Трампом в сфере искусства — удивительно показательный пример. Раньше, когда государственные учреждения США вмешивались в мир искусства, это обычно происходило потому, что они считали, что образ Америки в искусстве, экспортируемом в остальной мир, имеет экзистенциально важное значение. Переходя от ЦРУ к Трампу и обратно, мы видим, как Америка вела пропагандистскую войну в 1960-х годах и как она пытается делать это сегодня, в 2025 году.
Vox Культура
Культура отражает общество. Узнайте больше о финансах, развлечениях и самых популярных темах в интернете.
Электронная почта (обязательно) Зарегистрироваться. Указывая свой адрес электронной почты, вы соглашаетесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о конфиденциальности. Этот сайт защищен reCAPTCHA, и на него распространяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания Google.
«Объединим свободные традиции Европы и Америки»
Холодная война в сфере культуры, которую вёл ЦРУ, была тщательно скрытной. Многие из художников, которых оно финансировало и продвигало, понятия не имели, что ЦРУ распространяет их работы; некоторые подозревали и не хотели слишком пристально смотреть дарёному коню в зубы.
Основным инструментом, через который ЦРУ осуществляло свою деятельность, был Конгресс за свободу культуры – международная антикоммунистическая организация, стремившаяся к победе в войне идей против Советов. Конгресс за свободу культуры внешне был независимой организацией, но многие современники отмечали, что для художественного фонда, расположенного в бедной послевоенной Европе, у него были на удивление внушительные средства. Финансируемые им художники и интеллектуалы могли рассчитывать на перелёты первым классом в живописные места, чествование в роскошных отелях и доступ к широким и престижным площадкам.
Все деньги были получены от ЦРУ, и они сопровождались определенными условиями.
Журналист и историк боевых действий армии Мелвин Ласки изложил эту стратегию во внутренней военной записке 1947 года, которая стала известна как «Предложение Мелвина Ласки». Ласки осудил послевоенную неспособность Соединенных Штатов привлечь «образованные и культурные классы» Европы на сторону Америки, поскольку именно они «в долгосрочной перспективе обеспечивают моральное и политическое лидерство в сообществе». Советская пропаганда, писал Ласки, очернила образ Америки за рубежом: «А именно, предполагаемый экономический эгоизм США (дядя Сэм в роли Шейлока); их предполагаемая глубокая политическая реакция («продажная капиталистическая пресса» и т. д.); их предполагаемое культурное своенравие («мания джаза и свинга», радиореклама, голливудские «глупости», «искусство чизкейка и ног»); их предполагаемое моральное лицемерие (негритянский вопрос, издольщики, «оклахома») и т. д. и т. д.»
Неудивительно, что политика ЦРУ по подавлению любого искусства, затрагивающего расовые проблемы Америки, особенно сильно ударила по чернокожим писателям.
Против такой кампании, писал Ласки, бесполезно занимать высшую позицию и просто позволить фактам говорить самим за себя. Америке нужны собственные защитники, чтобы противостоять советской версии.
Ласки видел потенциальное решение этой проблемы в создании литературного журнала. Он писал, что это стало бы «демонстрацией того, что за официальными представителями американской демократии стоит великая и прогрессивная культура, богатейшая достижениями в искусстве, литературе, философии, во всех аспектах культуры, объединяющих свободные традиции Европы и Америки». Идея заключалась в том, что Америка должна была доказать Европе, что она — нечто большее, чем просто сборище морально развращенных провинциалов, борющихся с проблемой сегрегации. Только тогда она сможет спасти Европу от советской угрозы.
Связанный
- Как работает пропаганда в цифровую эпоху
После того, как ЦРУ приняло предложение Ласки, его первоначальная идея одного журнала превратилась в 20, и все они тайно финансировались ЦРУ через Конгресс за свободу культуры. Конгресс в период своего расцвета также финансировал престижные международные конференции, художественные выставки и публичные выступления. Все они были оценены ЦРУ, чтобы подтвердить их соответствие заданию, изложенному Ласки: они показывали, что в США существует традиция высокой культуры, которая будет привлекательна для эстетов Парижа и Берлина, и не осуждали Америку за её «моральное лицемерие» — за классовые различия, укоренившийся системный расизм или что-либо ещё. Для ЦРУ официальной и чётко заявленной целью этих журналов было представить европейским интеллектуалам видение капитализма американского образца, которое отвлечёт их от сохраняющегося интереса к коммунизму.
Многие из этих произведений искусства и культуры были действительно очень хороши и важны. Благодаря Конгрессу за свободу культуры ЦРУ стало поборником абстрактного экспрессионизма как антитезы советскому социальному реализму. Оно поддерживало Музей современного искусства (который уничтожил незавершённую фреску Диего Риверы, когда тот изобразил Ленина и отказался его стереть), и журнал Paris Review, изначально созданный агентом ЦРУ для его прикрытия. (Подробный рассказ о взаимоотношениях Paris Review с ЦРУ см. в глубоко исследованной книге Джоэла Уитни «Финкс: как ЦРУ обмануло лучших писателей мира»). Благодаря ему Бостонский симфонический оркестр стал всемирно известным учреждением.
Однако искусство, затрагивавшее расовую проблему Америки или её процветающую практику вмешательства в демократически избранные правительства других стран, считалось крайне подозрительным и потенциально орудием Советов. Оно не получало престижного финансирования от ЦРУ. Иногда его полностью запрещали.
«Я прослежу, чтобы его убили».
Неудивительно, что политика ЦРУ по подавлению любого искусства, посвящённого расовой проблеме Америки, особенно сильно ударила по чернокожим писателям. Джеймс Болдуин и Ричард Райт в начале своей карьеры много писали о грехах Советского Союза, и ЦРУ в то время оказывало им соответствующую поддержку. Их эссе переиздавались в Paris Review и в финансируемом ЦРУ журнале Encounters, а их романы распространялись по всему миру за счёт государственных средств. Однако, когда они переключили своё внимание с Советов на проблему американского расизма и американского государства слежки, они лишились расположения ЦРУ. Многие журналы, тайно контролируемые ЦРУ, стали отказываться публиковать их работы. ФБР, а вероятно, и ЦРУ, начали проникать в их жизнь и собирать на них досье. (Райт охарактеризовал этот поворот событий как «колебания ЦРУ между тайным спонсированием и шпионажем».) Тем временем У. Э. Б. Дюбуа, не имевший антикоммунистической репутации, пострадал больше всех: Госдепартамент просто отказал ему в выдаче паспорта.
Связанный
- Краткая история вмешательства ФБР в политику США
ЦРУ также активно действовало в Голливуде, тщательно проверяя фильмы на предмет наличия в них сюжетной линии, способной стать антиамериканской пропагандой. В одном из отчётов ЦРУ от 1953 года описывается, как агент убедил Paramount добавить «хорошо одетых негров» в качестве статистов в фильмы, в том числе в один из фильмов, действие которого происходит в элитном гольф-клубе, чтобы избежать разжигания дискуссии об американском расизме. Агент признаётся, что не совсем понимал, как реализовать этот приём в фильме, действие которого происходит на довоенном Юге. «Однако, — добавил он, — это в определённой степени компенсируется тем, что в одном из домов директора помещают достойного негра-дворецкого и дают ему диалоги, указывающие на то, что он — свободный человек и может работать, где захочет».
Не каждый фильм можно было так легко исправить. Один сценарий оказался совершенно недопустимым из-за «намека на то, что богатство англо-техасцев было создано за счёт эксплуатации мексиканского труда». «Я прослежу, чтобы его уничтожали каждый раз, когда кто-то попытается возродить его в Paramount», — пообещал агент. (Вместо этого фильм попал к Warner Brothers, где стал «Гигант», последним фильмом Джеймса Дина.) Культовый вестерн «Ровно в полдень» также подвергся критике за «несимпатичное изображение американских горожан и появление мексиканской проститутки в роли персонажа». К моменту доклада агента ЦРУ фильм уже вышел в прокат, но он всё равно пообещал подорвать его шансы на «Оскар». (Он всё равно получил четыре трофея, хотя и не в номинации «Лучший фильм».)
Художественный мир, созданный ЦРУ, был миром американской невинности. Это был мир, в котором чернокожие американцы имели свободный доступ к богатству и престижу, цветные никогда не подвергались эксплуатации, а расы существовали вместе в состоянии благотворной гармонии. Эстетика существовала в своей собственной, чистой сфере, где мазки кисти и цвета восхвалялись как деполитизированное выражение свободы. Искусство, которое было открыто политическим, было менее значимым, формой приукрашенной пропаганды. Наследие западного искусства было величайшим культурным достижением мира, и Америка теперь стала хранительницей этого наследия.
Во многом именно такой художественный мир Дональд Трамп, похоже, пытается сейчас заново построить. Только на этот раз нет смысла предлагать искусство законодателям вкусов Европы.
«Посредственность, провинциальный менталитет, ужасный мидкульт».
Вкусы Трампа в искусстве тяготеют к популизму и китчу. С эстетической точки зрения, работы, которые он продвигает на посту президента, меньше похожи на высоколобые работы, тайно продвигаемые ЦРУ, и больше на любимое искусство Джозефа Маккарти, другого великого цензора американской культуры времён Холодной войны и, пожалуй, одного из самых трамповских деятелей.
Маккарти, пишет Сондерс в книге «Культурная холодная война», «был автаркистом — он требовал «Сделано в Америке»… Маккартизм был движением — или моментом, — порождённым популистским негодованием против истеблишмента. В свою очередь, вульгарная демагогия Маккарти была воспринята правящей элитой как оскорбление. Он представлял собой то, что А. Л. Роуз в Англии презирал как «идиотов»; он оскорблял вкус брахманов, которые отвергали посредственность, провинциальный менталитет, ужасный мидкульт».
Художники и мыслители, чьи работы представлялись публике как самые актуальные и необходимые, какими бы важными они ни были, не обязательно были самыми актуальными и необходимыми художниками и мыслителями, работавшими в то время.
Маккарти был настолько нетерпим к высоколобым идеям, что некоторые агенты ЦРУ утверждали, что им приходилось тайно, скрытно продвигать таких деятелей, как Поллок, просто чтобы избежать гневных криков Маккарти. «Представьте себе, какие нелепые вопли поднялись бы», — говорит один из них Сондерсу в книге «Культурная холодная война»: «„Они все коммунисты! Они гомосексуалы!“ или что-то в этом роде».
Трампу тоже не по душе тот пьянящий интеллектуализм, который ЦРУ навязывало во времена холодной войны. Искусство, которое он продвигает, как правило, носит ярко выраженный репрезентативный характер, и, по сути, оно и должно быть таковым. В заявке на грант для его проекта Национального сада американских героев прямо запрещены «абстрактные или модернистские» статуи — проблема, как сообщало издание Politico в мае, поскольку в США в настоящее время нет устоявшейся традиции репрезентативной скульптуры.
Связанный
- Трамп не просто перестраивает Белый дом. Он меняет имидж Америки.
Репрезентативное искусство считалось советским во времена холодной войны, поэтому ЦРУ его не поддерживало. Без крупных премий, престижных публикаций в литературных журналах и участия в международных выставках репрезентативное искусство начало увядать. В художественных кругах оно стало считаться немодным и неинтеллектуальным, как викторианская архитектура или портреты в торговых центрах. Мы всё ещё живём в мире, созданном этим выбором: крупнейшая группа талантливых репрезентативных скульпторов сейчас сосредоточена в Китае.
Именно такой перекос в художественной экосистеме может возникнуть, когда государство вмешивается в мир искусства, даже спустя десятилетия. «Казалось, что правительство управляло подпольным поездом, где купе первого класса не всегда были заняты пассажирами первого класса», — писал издатель и критик Джейсон Эпштейн в 1967 году, когда новости о вмешательстве ЦРУ в культурный мир начали доходить до общественности. «ЦРУ и Фонд Форда, среди прочих агентств, создали и финансировали аппарат интеллектуалов, отобранных за их правильные позиции в холодной войне, в качестве альтернативы тому, что можно было бы назвать свободным интеллектуальным рынком, где идеология, как предполагалось, имела меньшее значение, чем индивидуальный талант и достижения, и где сомнения в устоявшихся ортодоксальных воззрениях считались началом любого исследования».
Художники и мыслители, чьи работы представлялись публике как наиболее актуальные и необходимые, какими бы важными они ни были, не обязательно были самыми актуальными и необходимыми художниками и мыслителями того времени. Они были теми, кто лучше всего соответствовал заявленным приоритетам ЦРУ.
Теперь мы остались в созданном ими мире — мире, где, что бы вы ни думали о ценности репрезентативного искусства, факт остается фактом: у нас его не так уж много, отчасти из-за искусственно созданной девальвации.
Это один из самых невинных побочных эффектов государственного вмешательства в мир искусства, которое ЦРУ осуществляло так скрытно, а Трамп сейчас делает с такой подчеркнутой откровенностью. Ещё более тревожно то, в чём, похоже, все они – и ЦРУ, и Трамп, и Маккарти – сходятся во мнении: вера в то, что любое произведение искусства, затрагивающее грехи Америки, должно быть подавлено, а любое, замалчивающее их, – возвеличено и прославлено. Когда государство начинает вмешиваться в искусство, оно, похоже, всегда сводится к идее о том, что само государство безупречно в плане искусства.
Source: vox.com