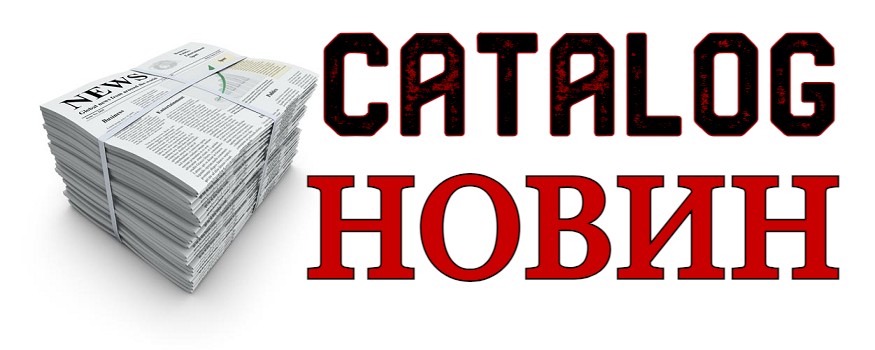Опросы — это «90 процентов чуши». По сути, все политические данные — «мусор». Консультанты-демократы, торгующие такими цифрами, занимаются «аферой» против собственной партии и во многом ответственны за победы президента Дональда Трампа. Вместо того, чтобы пытаться оценить общественное мнение с помощью псевдонаучных опросов, демократам стоит почитать историю и классику.
В этом и заключается суть недавней статьи Джона Ганца «Против опросов» — широко распространенной полемической статьи, которая на самом деле заслужила одобрение некоторых демократических социологов.
И эта статья, и её восприятие вызывают недоумение. Ганц — блестящий писатель, высказывающий множество проницательных мыслей об истории и политической философии. (Рекомендую подписаться на его рассылку и купить его книгу.) Однако его тирада против «данных» несправедлива и неубедительна. Он явно искажает позиции, против которых выступает, и приводит мало доказательств в пользу своих собственных. Он не признаёт некоторые очевидные возражения против своего антиэмпиризма, не говоря уже об их опровержении. Обоснованные утверждения его статьи неоспоримы, в то время как спорные — необоснованны.
Тем не менее, книга была тепло принята, даже теми, чьи призвания она очерняла.
Не знаю, почему так происходит. Но боюсь, что аргумент Ганца привлекателен именно потому, что он подрывает трезвый взгляд на электоральную политику: он предлагает продуманное обоснование для игнорирования любых данных, которые не нравятся.
Эта история впервые была опубликована в журнале The Rebuild.
Подпишитесь здесь, чтобы узнать больше о том, какие уроки либералам следует извлечь из поражения на выборах, и узнать, куда им двигаться дальше. Автор — старший корреспондент Эрик Левитц.
Ганц приводит несколько обоснованных доводов (которые никто, собственно, и не оспаривает)
Критика Ганца направлена как на политические данные в целом, так и на конкретный набор идей об избирательной стратегии Демократической партии: главным образом, на идею о том, что кандидатам от Демократической партии следует стремиться к большей заметности своих популярных позиций, избегать слишком частых разговоров о своих непопулярных позициях и проявлять большее уважение к общественному мнению, чем это делает партия в настоящее время. Этот базовый подход часто называют «популизмом» (ужасный, но полезный неологизм). Его отстаивают, в частности, специалист по анализу данных Демократической партии Дэвид Шор, комментатор (и соучредитель Vox) Мэтт Иглесиас и, менее заметно (и более двусмысленно), я.
Выступая против популизма, Ганц говорит много неоспоримой правды. Например, посвятив большую часть своей колонки рассуждениям о том, что данные общественного мнения — это «мусор» и «90% чушь», он возвращается к утверждению, что опросы — это «часть картины мира», просто «не вся картина».
Само собой разумеется, что идея о том, что опросы общественного мнения не должны быть единственным инструментом для понимания реальности, и идея о том, что опросы общественного мнения практически полностью мошеннические, существенно различаются. Первое утверждение неоспоримо; проблема в том, что его никто не оспаривает.
В этом и заключается проблема практически всех обоснованных утверждений Ганца. Он справедливо отмечает, что опросы общественного мнения несовершенны, что общественное мнение не фиксировано, что не все полезные знания о политике поддаются количественной оценке и что хорошая кампания — это нечто большее, чем просто отражение политических предпочтений общественности. Но он не цитирует ни одного консультанта или комментатора Демократической партии, который бы опроверг эти азбучные истины, вероятно, потому, что никто этого не делает.
Вместо того чтобы опровергнуть идеи популяризаторов, Ганц опровергает абсурдную идеологию собственного изобретения. Он пишет, что «мировоззрение специалистов по данным основано на гигантской ошибке», а именно, что «существует объективный мир, и он не меняется».
Однако ни один серьёзный человек никогда не утверждал, что общественное мнение не меняется. Очевидно, что оно меняется. И это не ускользает от внимания «специалистов по данным». Дэвид Шор, например, утверждал, что политики-демократы обладают властью менять взгляды многих своих избирателей, что решение Верховного суда по делу «Доббс против организации женского здравоохранения Джексона» сделало американцев более либеральными в отношении абортов, и что «то, что волнует людей и в чём они доверяют [демократам], на самом деле зависит от конкретных событий, происходящих в мире».
В данном случае реальный спор между Ганцем и популяристами заключается не в том, может ли измениться общественное мнение, а в том, насколько велики возможности у политиков-демократов по изменению взглядов колеблющихся избирателей — то есть избирателей, которые не особенно доверяют политикам-демократам.
Все признают ограниченность этих возможностей. Большинство прогрессистов, несомненно, согласятся с тем, что демократам не удастся убедить колеблющихся избирателей поддержать новые высокие налоги на мясо. Возможно, существуют веские моральные аргументы в пользу повышения стоимости стейков, учитывая жестокость и экологический вред, присущий крупномасштабному животноводству. Однако, если бы демократы агитировали за снижение доступности мяса, они бы, несомненно, не столько изменили отношение колеблющихся избирателей к промышленному животноводству, сколько испортили имидж Демократической партии. Я серьёзно сомневаюсь, что Ганц стал бы это оспаривать.
Если он этого не сделает, то дискуссия по этому вопросу будет вестись не о том, должны ли демократы мириться с существующими предпочтениями общественности по некоторым вопросам. Скорее, речь идёт о 1) том, что это за темы, и 2) как их можно идентифицировать.
Это сложные вопросы. Чтобы ответить на них, необходимо выносить не только эмпирические, но и нормативные суждения (главным образом, о том, как политикам-демократам следует взвешивать риск отчуждения избирателей и пользу евангелизации ради благородных целей). Разумно утверждать, что Шор, Иглесиас или любой другой «специалист по данным» ошибается в этих вопросах. Но чтобы это доказать, нужно разобраться с их реальными предпосылками, а не разносить в пух и прах карикатуру на их мировоззрение.
Связанный
- 5 причин, по которым демократы в хорошей форме
Неужели демократические исследователи общественного мнения неверно оценили политику иммиграции?
Ганц ближе всего подходит к рассмотрению реальных взглядов специалистов по данным в своем обсуждении иммиграции.
В 2024 году — и в первые месяцы президентства Трампа — популяристы призывали демократов сосредоточиться на экономических проблемах электората, а не на моральных аргументах против плана Трампа по массовой депортации. Ганц утверждает, что это было ошибкой, коренящейся в переоценке данных опросов и недооценке моральных суждений электората.
Его аргументация такова: опросы 2024 года показали, что избиратели согласны с Трампом в вопросе о массовой депортации. Это побудило популяристов отговорить демократов от критики жестокости политики Трампа. Однако опросы на эту тему были принципиально обманчивы: большинство избирателей не испытывали глубокой приверженности идее очищения страны от трудолюбивых и законопослушных иммигрантов. И когда люди увидели, к чему приводит политика Трампа, они ужаснулись. Теперь большинство американцев не одобряют политику президента в отношении иммиграции.
По мнению Ганца, винить следует не общественность за неспособность предвидеть последствия программы Трампа, а «ленивых политиков» и «трусливых советников», которые помешали демократам предупредить избирателей об этом вреде. Отказываясь апеллировать к «способностям суждения и воображения» электората, Ганц предполагает, что «специалисты по анализу данных» способствовали избранию Трампа.
В этом аргументе есть много проблем. Но большинство из них проистекают из двух необоснованных предположений, лежащих в основе рассуждений Ганца:
- Если избиратели разочаровались в иммиграционной повестке Трампа, увидев ее последствия в 2025 году, то демократы могли бы изменить свое мнение об этой повестке в 2024 году, если бы партия только помогла американцам представить себе эти последствия.
- Если избиратели не одобряют политику Трампа в отношении иммиграции, то Демократическая партия не должна быть заинтересована в снижении значимости этой темы по сравнению с экономическими проблемами.
Что касается первого пункта, утверждение, что демократы не предупредили избирателей о том, к чему может привести массовая депортация, просто неправда. Напротив, в ходе предвыборной кампании в сентябре прошлого года тогдашний вице-президент Камала Харрис открыто апеллировала к «способностям суждения и воображения» избирателей по этому вопросу, предупредив, что Трамп «пообещал провести самую масштабную депортацию, массовую депортацию, в истории Америки. Представьте, как это будет выглядеть и что это будет? Как это будет происходить? Массовые рейды? Массовые лагеря для задержанных?»
На момент этих заявлений демократы уже почти десять лет выдвигали различные версии этого аргумента. В какой-то момент того периода Трамп воспользовался президентскими полномочиями, чтобы разлучить родителей-мигрантов с их детьми, что стало печально известным скандалом. Если всего этого было недостаточно, чтобы убедить колеблющихся избирателей в невыносимой жестокости подхода Трампа к иммиграции, почему мы должны быть уверены, что Харрис смогла бы убедить их в том же, если бы она изложила свои аргументы более убедительно?
Ганц приводит доказательства того, что общественное мнение по вопросу иммиграции чувствительно к изменениям объективных условий и освещения в СМИ. Однако из этого не следует, что такое мнение сильно реагирует на риторику демократов.
Однако в случае Ганца есть и более существенная проблема: текущие опросы по-прежнему указывают на то, что иммиграция является источником относительной силы Трампа и слабости Демократической партии.
Согласно среднему рейтингу опросов RealClearPolitics, иммиграция остается наиболее важной проблемой для Трампа: по состоянию на 15 августа избиратели не одобряют действия президента по этому вопросу всего на 5 процентных пунктов. Для сравнения, по состоянию на то же время избиратели не одобряют действия Трампа по управлению инфляцией на 20,5 процентных пунктов и экономику в целом на 11,6 процентных пунктов.
Что ещё важнее, некоторые недавние опросы показывают, что избиратели по-прежнему предпочитают жестокую политику Трампа в отношении иммиграции предполагаемой несерьёзности Демократической партии в этом вопросе. В июльском опросе Wall Street Journal избиратели заявили, что доверяют республиканцам в вопросах иммиграции больше, чем демократам, с перевесом в 17 пунктов. В то же время, по вопросу нелегальной иммиграции, избиратели отдали предпочтение Республиканской партии с перевесом в 24 пункта.
Таким образом, основное предположение популяризаторов по этому вопросу — о том, что демократы заинтересованы в том, чтобы акцентировать внимание на экономических вопросах по сравнению с иммиграцией — сегодня столь же правдоподобно, как и в 2024 году.
Если говорить точнее, всё это вовсе не означает, что демократам не следует привлекать внимание к жестокости иммиграционной политики Трампа по причинам, не связанным с выборами. На мой взгляд, популяристы могут маниакально зацикливаться на политической оптимизации в ущерб другим соображениям. Решение сенатора-демократа Криса Ван Холлена агитировать за освобождение Килмара Абрего Гарсии — иммигранта, незаконно депортированного Трампом в Сальвадор, — возможно, немного увеличило шансы демократов на победу на промежуточных выборах 2026 года. Но это принесло утешение давнему жителю США, страдавшему в кошмарной зарубежной тюрьме. Похоже, это стоило того.
Однако Ганц не формулирует свою позицию против популизма исключительно с моральной точки зрения. Напротив, он утверждает, что «специалисты по данным» конкретно ошибаются в том, как победить на выборах, — настолько ошибаются, что их опросы представляют собой «мусор» и «мошенничество». Единственным доказательством этого крайне весомого утверждения служит то, что общественное мнение об иммиграции изменилось с 2024 года.
Другими словами, Ганц виновен именно в том, в чем он обвиняет «специалистов по данным»: в огульных выводах на основе недальновидного и нелюбопытного прочтения выборочных данных опросов.
Связанный
- Вот почему Камала Харрис действительно проиграла
Если эмпиризм мертв, то все разрешено.
Легко перечислить недостатки анализа данных опросов и выборов. Настоящая сложность заключается в поиске альтернативных методов определения политической реальности, которые были бы более надёжными и менее подверженными мотивированным рассуждениям. И Ганц не справляется с этой задачей.
Он утверждает, что политика — это искусство, а не наука, и поэтому овладеть ею можно только гуманистическими методами: нет альтернативы изучению «слов и действий политиков прошлого» и обширной философской литературы по эффективной риторике, начиная с древних греков. Ораторское искусство Рузвельта, возможно, не может служить точным руководством к действию, как в случае с опросами общественного мнения, тестами на эффективность публичных выступлений или сложным статистическим анализом результатов выборов. Однако Ганц утверждает, что такая цифровая обработка может скрыть больше, чем прояснить, абстрагируясь от сущностного контекста, который можно уловить только посредством качественного изучения политической истории и классических произведений.
Конечно, некоторые полезные политические знания невозможно представить математически, и история — незаменимое дополнение к политической науке. Однако как инструмент для прогнозирования реакции избирателей на заданную повестку дня или послание гуманистическое изучение «политиков прошлого» имеет очевидные недостатки.
Во-первых, как подчёркивает сам Ганц, общественное мнение со временем меняется. Риторические приёмы и содержательные позиции, которые были эффективны в прошлом, могут оказаться менее действенными в настоящем. Опросы общественного мнения могут дать портрет современных взглядов, а история — нет.
Более того, то, что нам говорят история и классика об оптимальной избирательной стратегии в 2025 году, крайне неопределенно: сосредоточившись на отдельных исторических примерах или подчеркивая различные элементы контекста, можно сделать огромное количество различных выводов.
Конечно, количественные инструменты можно применять предвзято. Но научные методы накладывают гораздо более серьёзные ограничения на мотивированное рассуждение, чем гуманистические исследования. Тщательные опросы общественного мнения могут фальсифицировать предположения об общественном мнении (или, по крайней мере, поставить их под сомнение). Анализ того, какие кандидаты превзошли свою партию на недавних выборах, может подтвердить или опровергнуть определённые теории о передовой политической практике. В отличие от этого, никто никогда не узнал, что его политические предпочтения были непопулярны, читая Аристотеля.
Статья Ганца непреднамеренно иллюстрирует подверженность его метода предвзятому мышлению. Чтобы понять, как это происходит, стоит процитировать его заключение полностью:
Необходимо отказаться от статистической зацикленности начала XXI века, которая привела к стольким неверным прогнозам и стольким загадочным поражениям. Мы живём не в эпоху мелких расчётов, а в эпоху великих движений. Политики с видением будущего и сильной, чёткой риторикой, такие как Трамп, Берни, АОК, а теперь и Мамдани, – это те, кто вдохновляет людей. Люди разочаровываются и теряют иллюзии, когда они скатываются в ханжество, подражающее фокус-группам. Скажите хоть что-нибудь для разнообразия.
Трудно точно сказать, что именно Ганц здесь утверждает, поскольку его язык несколько расплывчат и афористичен. Если прищуриться, можно подумать, что он просто утверждает набор банальных истин (политику вредно говорить шаблонными фразами, которые звучат неискренне; харизма важна; наличие активной базы поддержки желательно, при прочих равных условиях).
Однако при самом прямолинейном прочтении Ганц, похоже, выдвигает по меньшей мере три спорных утверждения:
- Недавние поражения демократов были вызваны чрезмерным уважением к данным общественного мнения.
- Успех Трампа показывает, что пристальное внимание к результатам опросов общественного мнения менее важно, чем предложение видения, которое воодушевляет людей и мобилизует «великое движение».
- В качестве образца демократической политики, эффективной в нашу эпоху, можно привести сенатора Берни Сандерса, конгрессмена Александрию Окасио-Кортес и кандидата в мэры Нью-Йорка Зохрана Мамдани.
Ни одно из этих утверждений не является самоочевидно верным. Что касается первого пункта, можно с таким же успехом утверждать, что Хиллари Клинтон и Камала Харрис проиграли, потому что уделяли слишком мало внимания опросам общественного мнения, а не слишком много. В конце концов, обе отказались принять многие позиции большинства, противоречащие прогрессивным принципам. А Харрис, как известно, проигнорировала советы консультантов-демократов, ориентирующихся на данные, которые умоляли её меньше концентрироваться на «демократии» и больше на стоимости жизни.
Точно так же не очевидно, что Трамп добился большего успеха, чем менее харизматичный, но более умеренный и дисциплинированный республиканец, оказавшийся на его месте. Стоит вспомнить, что Трамп 1) проиграл по голосам избирателей с разницей в 2 миллиона голосов в 2016 году, несмотря на то, что баллотировался против исторически нелюбимого кандидата от Демократической партии, 2) проиграл президентские выборы в 2020 году, несмотря на то, что баллотировался против дряхлого человека, который не мог связно излагать свои мысли, 3) победил с небольшим перевесом в 2024 году, даже несмотря на попутный ветер глобальной антиправительственной реакции, и 4) несмотря на всё это, имел необычно низкий рейтинг одобрения (для президента или лидера партии).
Вполне возможно, что республиканцы добились бы гораздо худших результатов за последние девять лет, если бы ими руководил консервативный умеренный политик, устраивающий малолюдные митинги. Но откуда Ганц это знает?
Наконец, сложно найти веские основания для выбора Берни Сандерса, Александрии Окасио-Кортес и Зохрана Мамдани в качестве примеров эффективной демократической политики в 2025 году. Все они — талантливые политики. И я думаю, что Демократической партии в целом есть чему поучиться у каждого из них. Тем не менее, они в совокупности не выиграли ни одного всеобщего голосования за пределами Нью-Йорка и Вермонта — двух самых демократических юрисдикций в Америке. Согласно опросу Сиенского колледжа, опубликованному на этой неделе, рейтинг одобрения Мамдани в штате Нью-Йорк составляет всего 9%.
Задача, стоящая перед демократами сегодня, заключается не в том, как победить на выборах мэра Нью-Йорка, а в том, как победить на президентских выборах в Пенсильвании и в сенатских выборах в Северной Каролине. И Ганц не приводит никаких доказательств того, что апелляция к мнению большинства в этих регионах (измеренному научными методами) менее важна, чем инициирование «больших движений», как это сделали Сандерс, Окасио-Кортес и Мамдани.
Всё это означает: отвергая «научные» методы оценки утверждений о политической реальности, Ганц позволяет себе делать серьёзные выводы о том, как демократам лучше всего лишить Республиканской партии власти, не приводя при этом серьёзных обоснований или даже аргументов. И эти выводы идеологически удобны для Ганца, чьи социал-демократические взгляды хорошо представлены Сандерсом, Окасио-Кортес и Мамдани.
Вот что я нахожу коварным во всей его аргументации: она направлена на то, чтобы изолировать интуицию прогрессистов относительно электоральной политики от любого эмпирического испытания.
У прогрессистов есть сильные стимулы заниматься мечтаниями об избирательной политике
Это проблема, в том числе и потому, что политическая интуиция левых может быть предвзятой, если ее не подкреплять данными.
У левых активистов и публичных интеллектуалов есть веские основания полагать, что между фракционным проектом прогрессивного движения (сдвинуть демократов влево) и электоральным проектом Демократической партии (ограничить влияние Республиканской партии) существует минимальное противоречие. Если бы между этими двумя стремлениями существовали значительные компромиссы, то у таких прогрессистов, возможно, возникло бы моральное обязательство рекомендовать некую форму умеренности. В конце концов, как демонстрирует администрация Трампа практически ежедневно, ставки в деле недопущения авторитарных правых к власти чрезвычайно высоки.
Однако нельзя выступать за более идеологически осторожную Демократическую партию, не рискуя отдалиться от других прогрессивистов. В принципе, нет никаких оснований полагать, что социал-демократия — самая справедливая политическая система, и что — на данном этапе истории — Демократическая партия выиграла бы гораздо больше выборов, если бы заняла умеренную позицию по некоторым вопросам. Последнее — эмпирическое, а не нормативное суждение. Однако выражать эту точку зрения как прогрессивный политик — значит ставить под угрозу своё чувство принадлежности и уважения среди тех, кто разделяет ваши моральные убеждения. Это наверняка навлечет на вас презрительное клеймо «центриста». Некоторые прогрессивные авторы могут даже счесть возможным назвать вас «трусливым» мошенником без каких-либо доказательств.
Таким образом, любой, кто находит общность и идентичность в прогрессивной политике (а в эту группу входит значительная часть деятелей, сотрудников и комментаторов Демократической партии), склонен недооценивать политическую пользу умеренности. Опросы и данные выборов — единственный реальный способ проверить такую предвзятость. И статья Ганца даёт обоснование для её отрицания.
Всё это не означает, что популяристы обязательно правы в том, как демократы могут победить на выборах, не говоря уже о том, как партия должна сбалансировать диктат принципа с требованиями политической целесообразности. Последнее — неизбежно ценностный вопрос, который данные не могут решить. Однако невозможно сформулировать морально серьёзный ответ на эту дилемму без правдоподобной концепции политической реальности. И научные методы остаются нашим лучшим инструментом для формирования такой концепции. Несмотря на все недостатки опросов, всё ещё нет лучшего способа узнать мнение избирателей, чем спросить их (или, точнее, репрезентативную выборку, используя максимально нейтральные формулировки вопросов). И, несмотря на все методологические споры среди политологов, всё ещё нет лучшего способа определить, какие типы кандидатов нравятся большинству избирателей, чем тщательно изучить, за кого они голосуют.
Source: vox.com